
Таксидермист — редкая профессия, отношение к которой всегда оставалось неоднозначным. Одни уверены, что люди, изготавливающие чучела из трупов животных — потрошители, которым нравится издеваться над братьями нашими меньшими. Другие считают, что таксидермисты – мастера уникального дела, развивающие научную деятельность и особый вид искусства. «Пушкинская» пообщалась с единственным таксидермистом зоологического музея при университете им. Мечникова и расспросила его о работе.
Андрей Борисович Трескин — лаборант зоологического музея, который более 40 лет создает чучела из животных как под заказ, так и для образовательных и музейных учреждений. Увлекся этим делом с юных лет, на волне популярных фильмов Жака-Ива Кусто, подъема океанологии и других научных дисциплин. Случайный поход с одноклассником в зоологический музей и знакомство с таксидермистом так зацепило юношу, что планы на будущее уже были известны со школьной скамьи.
«Как-то с другом мы попали в зоологический музей, где работал его родственник. Чучелами увлекались давно, поэтому нас сразу показали таксидермисту, как потом оказалось очень именитому в городе — Степану Владимировичу Михайлову. Мы ему и выпалили: хотим сделать чучело. Он махнул на лежащего рядом голубя и сказал, мол, вперед. Хотя про себя пробубнил, что когда он пришел учиться, то вначале полгода тушки мотал, полгода проволоки, еще полгода глаза делал и только потом его допустили к снятию шкуры. А тут пришли двое юнцов и сразу чучело захотели делать. Пробубнил, но работу дал. Знаний у нас не было, что делать и как — понятия не имели. Я наблюдал за его работой, но спрашивать что-то было неловко, не хотелось навязываться. Первое чучело сделал, но больше туда не приходил».
Через время подвернулась возможность самостоятельно соорудить чучело. Сосед, заядлый охотник, щипал несколько уток у подъезда и оставил одну в груде перьев.
«Счастливый случай, подумал я, и забрал тушку домой. Снял шкуру, почистил все и засолил. Конечно, уже с опытом понимаешь ошибки, которые тогда привели к плохому результату. У уток большая голова и тонкая шея. Вывернуть ее наизнанку, чтоб прочистить череп, не получится. Поэтому я так все оставил и засолил. Подумал, что чучело удалось, но уже через несколько дней появился запашок, а позже и червячки. Экспонат пришлось выкинуть, но первые чучела остались в памяти навсегда».
После школы Андрей Борисович выбирает биологический факультет, но с первого раза поступить не получилось. Тогда он устроился в зоологический музей препаратором и убирал залы.
«Все это занимало полдня, остальное время нужно было чем-то наполнить. Я заглядывал в музейную мастерскую таксидермистов и смотрел, как они работают. Через время начал пробовать сам. Первые попытки, конечно, были неудачные, но с каждым годом результат становился лучше. Даже когда в армию забрали, и там умудрялся делать экспонаты прапорщикам».
После окончания биофака Андрей Борисович остался в музее и окончательно переквалифицировался в таксидермиста.
«Сегодня хороших мастеров в Украине около полусотни, в Одессе — можно посчитать на пальцах одной руки».
С его слов, все они — самоучки, которые набивали руку, будучи подмастерьем у опытных таксидермистов, так как профильных учебных заведений в стране нет. Большинство пришло из охотничьей среды с желанием самостоятельно делать чучела из убитых животных.

«Таксидермист — многогранная профессия. Здесь нужно понимать биологию, химию и анатомию, чтобы правильно снять шкуру с животного и грамотно собрать каркас: поставить крылья, шею, лапы и согнуть их так, чтоб экспонат выглядел не только эффектно, но и анатомически правильно. Вообще, для придания формы нужно иметь художественное воображение и пространственное мышление. Как-то я увидел работу птицы, которая была выполнена очень качественно. Но ноги у нее торчали не с середины туловища, а простите, значительно ниже. Это говорит про безграмотность мастера в анатомии».
Тушки убитых или умерших животных таксидермисту приносят охотники, работники зоопарка, цирка или частных ферм. Как утверждает Андрей Борисович, брать он старается именно тушки, а не шкуры, так как для чучела требуется особая съемка шкуры.
«Когда поступает животное, прежде всего я осматриваю его на предмет свежести и здоровья. Как правило, охотники знают, что годится для чучела, а что нет. Если поступает что-то сложное, поврежденное, но уникальное, я соглашаюсь повозиться, мне самому становится интересно».
Далее начинается процесс не для слабонервных: с животного снимают шкуру, выделывают ее в уксусно-солевом растворе, сушат и надевают на готовый каркас. Раньше для создания чучела использовали набивку из опилок, ваты или пакли. Сегодня манекен делают благодаря скульптурному методу — самостоятельно или покупают уже готовый.
«Каркас я делаю сам. Основу, плотный утеплитель, покупаю на рынках. Стоит он относительно дешево, около 80 гривен за лист. Его хватает на один большой манекен, например, волка или несколько мелких, вроде птиц. По промерам острым ножом я вырезаю куски, склеиваю их и наждачной шкуркой отшлифовываю до нужного силуэта».
На готовый каркас надевают обработанную шкуру. Процесс сложный и деликатный, так как через несколько дней, после полного высыхания, происходит усадка шкуры и деформация чучела. Если не учитывать эти нюансы и не корректировать их после сборки, получаются экспонаты вроде «упоротого лиса» с выпученными глазами и перекошенной мордой. Некоторые мастера, как Андрей Борисович, зоны глаз, губ, носа приклеивают к манекену для того, чтобы чучело не косило в разные стороны.
Самым сложным элементом в работе таксидермист называет передачу эмоций животного. Получается это только с годами.
«Глаза и выражение морды — показатель профессионализма. Мне это удавалось всегда, трудности были с другим: у крупных млекопитающих долгое время не получалась стойка задних лап, но со временем и это освоил».
Как правило, когти, зубы, череп и некоторые кости остаются родными. Глаза мастер делает сам из органического стекла. Стеклянные светоотражающие глаза могут обойтись чучельнику до 70 долларов, поэтому многие из-за дороговизны от такого варианта отказываются.
«Маленькую птичку можно сделать за день. Работа с более крупными животными может затянуться на месяц. Что из них сложнее — трудный вопрос, все зависит от нюансов. Чучело королька или летучей мыши — кропотливая работа, так как их тельце всего несколько сантиметров, а нужно снять шкурку, обработать и точно выстроить их естественное положение. На это может уйти до нескольких дней. Чучело кабана весом в 400 килограммов я сделал за две недели».
Самым сложным животным специалист называет обезьяну. Млекопитающее имеет сложное антропологическое строение, особенно ног, поэтому «поставить» его в нужное положение крайне сложно. А естественное выражение морды — верх профессионализма.

Из экзотических животных мастер работал с зубром, тигром, муфлоном, импалой, африканским бородавочником и водяным козлом.
Одно чучело может обойтись от 700 гривен до тысячи долларов — в зависимости от объема работы и потраченного времени. Действует и гарантия на экспонат при соблюдении условий правильного хранения: два раза в год опрыскивать средством от моли, избегать влажных помещений, улицы и прямых солнечных лучей. В таком случае работа может храниться в хорошем состоянии десятки лет.
«В зоологическом музее есть экспонаты, которым около двухсот лет. Сделаны они качественно, с учетом всех правил, поэтому простоят еще столько же».
Андрей Борисович берется и за чучела домашних животных, но предупреждает владельцев сразу — готовый результат может отличаться от привычного питомца.
«Человек знает своего животного как Мурзика или Бобика, а я сделаю из него собачку или кошечку. Выражение морды угадать очень сложно, поэтому хозяина предупреждаю сразу — итог получится иным, чем хочется».
О том, как окружение реагирует на такую профессию, Андрей Борисович отвечает прямо — реакция бывает разная, с годами привыкаешь ко всякому.
«Чучельники часто слышат, что они потрошители или живодеры. Но это ложные мысли. Мы очень любим животных, у каждого есть собаки, кошки, птицы. В 90-е, когда были сложные времена, я выходил на базары и торговал чучелами. Часто слышал двоякое мнение — “о, какая прелесть” или “фу, какая гадость”. Поэтому привыкаешь ко всему».
На вопрос о любимом экспонате таксидермист отвечает скромно: главную свою ценность он еще не создал.
«Самого любимого экспоната еще нет. Я ставлю себе за жизненную цель сделать экспозицию, которая понравится мне на сто процентов. Как только она появится, готов буду покинуть свою работу и достойно уйти на пенсию».

Текст: Ивлева Оля, фото: Кирилл Печерик
источник: pushkinska.net

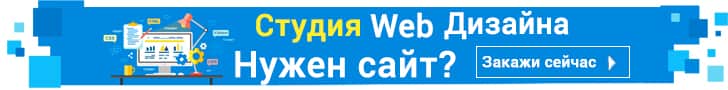

 Спорт новости в Одессы
Спорт новости в Одессы SEO продвижение в Одессе
SEO продвижение в Одессе


















